Кто принес наибольшую пользу человечеству
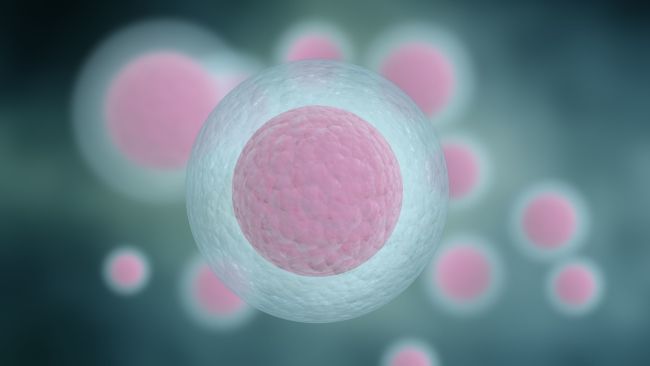
Ó÷èòûâàÿ áûñòðûå èçìåíåíèÿ â òåõíîëîãèÿõ è íàóêå, ìîæíî ëåãêî çàáûòü, ÷òî åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìû ìíîãîãî íå çíàëè.  ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ïðîèçîøëè ñåðüåçíûå ïðîðûâû â ôèçèêå, áèîëîãèè è àñòðîíîìèè. Êàêèå èç ýòèõ îòêðûòèé îêàæóòñÿ íàèáîëåå âàæíûìè, âåðîÿòíî, ìîæíî áóäåò ñóäèòü ïîçæå, íî íåêîòîðûå èç ïîñëåäñòâèé îòêðûòèé çàâåðøèâøåãîñÿ äåñÿòèëåòèÿ íà÷èíàþò ñêàçûâàòüñÿ óæå ñåé÷àñ. Âîò ïîäáîðêà äëÿ ñàìûõ êðóïíûõ íàó÷íûõ äîñòèæåíèé äåñÿòèëåòèÿ è óäèâèòåëüíûõ îòêðûòèé.
2010: ïåðâàÿ ñèíòåòè÷åñêàÿ «æèçíü»
Ó÷åíûå ðàçìûëè ãðàíü ìåæäó åñòåñòâåííûì è èñêóññòâåííûì â 2010 ãîäó, ñîçäàâ ïåðâûé â ìèðå îðãàíèçì ñ ñèíòåòè÷åñêèì ãåíîìîì. Èññëåäîâàòåëè èç Èíñòèòóòà Äæ. Êðåéãà Âåíòåðà (J. Craig Venter Institute) ñîáðàëè ãåíîì áàêòåðèè Mycoplasma mycoides èç áîëåå ÷åì ìèëëèîíà ïàð îñíîâàíèé ÄÍÊ. Çàòåì îíè âñòàâèëè ýòîò èñêóññòâåííûé ãåíîì, ñîçäàííûé ÷åëîâåêîì, â äðóãóþ áàêòåðèþ, Mycoplasma capricolum, êîòîðàÿ áûëà î÷èùåíà îò ÄÍÊ. Ìåõàíèçì M. capricolum âñêîðå íà÷àë ïðèâîäèòü èíñòðóêöèè ýòîãî ñèíòåòè÷åñêîãî ãåíîìà â äåéñòâèå, çàïóñòèâ âîñïðîèçâîäñòâî òî÷íî òàê æå, êàê è M. mycoides.
Íà÷èíàÿ ñ ýòîãî ïðîðûâà, ó÷åíûå ïðîäîëæèëè äåëàòü óñïåõè â ñèíòåòè÷åñêîé áèîëîãèè.  2016 ãîäó ó÷åíûå ñîçäàëè ñàìûé ìàëåíüêèé ñèíòåòè÷åñêèé ìèêðîá èç âñåãî 473 ãåíîâ.  2017 ãîäó îíè îáúÿâèëè î ñîçäàíèè ïÿòè ñèíòåòè÷åñêèõ äðîææåâûõ õðîìîñîì. Ïëàí ó÷åíûõ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû çàìåíèòü âñå 16 õðîìîñîì â äðîææàõ ñèíòåòè÷åñêèìè õðîìîñîìàìè, êîòîðûå ìîæíî íàñòðîèòü äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííûõ çàäà÷, òàêèõ êàê ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî àíòèáèîòèêîâ èëè äàæå ñîçäàíèå âûðàùåííîãî â ëàáîðàòîðèè ìÿñà.
2011: ïðîôèëàêòè÷åñêîå ëå÷åíèå ÂÈ×
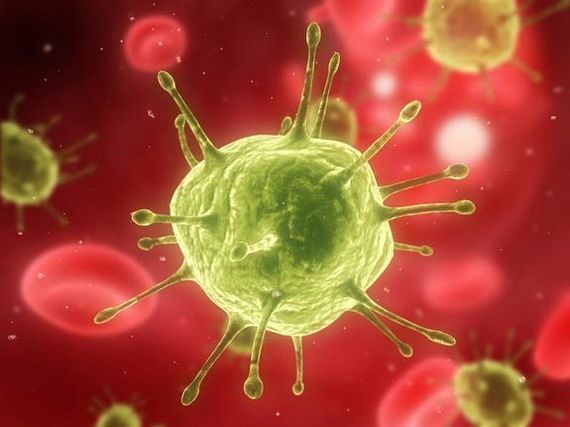
Ñåãîäíÿ ìíîãèå ëþäè ñ âûñîêèì ðèñêîì çàðàæåíèÿ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), âûçûâàþùèì ÑÏÈÄ, åæåäíåâíî ïðèíèìàþò òàáëåòêè äëÿ ñíèæåíèÿ ðèñêà çàáîëåâàíèÿ.  2012 ãîäó Óïðàâëåíèå ïî ñàíèòàðíîìó íàäçîðó çà êà÷åñòâîì ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è ìåäèêàìåíòîâ ÑØÀ (U.S. Food and Drug Administration) óòâåðäèëî äëÿ ýòîé öåëè ëåêàðñòâî ïîä íàçâàíèåì Truvada. Íî ïîäãîòîâèëî ïî÷âó äëÿ ýòîãî ñåðüåçíîãî èçìåíåíèÿ â ïðîôèëàêòèêå ÂÈ× áîëüøîå èññëåäîâàíèå, êîòîðîå áûëî çàâåðøåíî â 2011 ãîäó.
Ýòî èññëåäîâàíèå, êîòîðîå æóðíàë Science íàçâàë «ïðîðûâîì ãîäà», âïåðâûå ñ 1994 ãîäà ïðîäåìîíñòðèðîâàëî íîâûé ñïîñîá ïðåäîòâðàùåíèÿ ïåðåäà÷è ÂÈ× îò îäíîãî ÷åëîâåêà äðóãîìó. ( 1994 ãîäó èññëåäîâàòåëè ñîîáùèëè, ÷òî îíè íàøëè ôàðìàöåâòè÷åñêèé âàðèàíò, ïîìîãàþùèé ïðåäîòâðàòèòü ïåðåäà÷ó ÂÈ× îò áåðåìåííîé æåíùèíû åå ïëîäó). Èññëåäîâàíèå íà÷àëîñü â 2005 ãîäó, è ðåçóëüòàòû 2011 ãîäà áûëè ïðîìåæóòî÷íûìè. Èññëåäîâàòåëè îáíàðóæèëè ñíèæåíèå ïåðåäà÷è ÂÈ× íà 96% â ýòèõ äàííûõ. Îêîí÷àòåëüíûå äàííûå, îõâàòûâàþùèå âñå 10-ëåòíåå èññëåäîâàíèå, îïóáëèêîâàííûå â Ìåäèöèíñêîì æóðíàëå Íîâîé Àíãëèè (New England Journal of Medicine) â 2016 ãîäó, ïîêàçàëè ñíèæåíèå ïåðåäà÷è ÂÈ× íà 93%.
2012: áîçîí Õèããñà
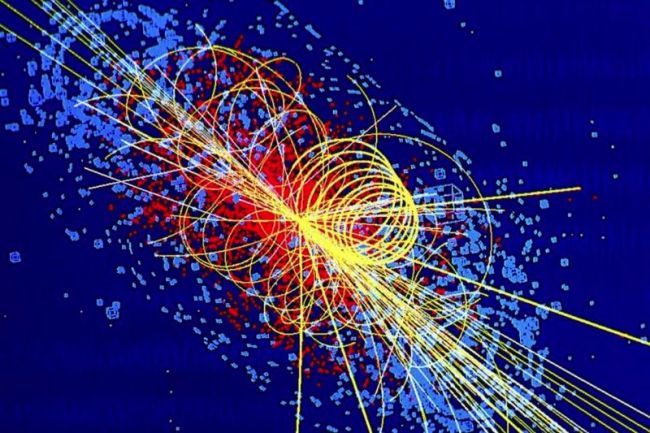
 èþëå 2012 ãîäà ó÷åíûå, ðàáîòàþùèå íà êðóïíåéøåì â ìèðå óñêîðèòåëå ÷àñòèö, îáúÿâèëè, ÷òî îíè äîáèëèñü ãðàíäèîçíîãî îòêðûòèÿ. Ýêñïåðèìåíòû íà Áîëüøîì àäðîííîì êîëëàéäåðå (LHC), íàêîíåö, îáíàðóæèëè ñâèäåòåëüñòâî ñóùåñòâîâàíèÿ ïîñëåäíåé íåîòêðûòîé ÷àñòèöû, ïðåäñêàçàííîé Ñòàíäàðòíîé ìîäåëüþ ôèçèêè.
Áîçîí Õèããñà áûë, íàêîíåö, íàéäåí. Ýòî ÷àñòèöà, ñâÿçàííàÿ ñ ïîëåì Õèããñà. Åå ýíåðãåòè÷åñêîå ïîëå ëåæèò â îñíîâå òîãî, ïî÷åìó ÷àñòèöû èìåþò ìàññó. ×àñòèöû íàáèðàþò ìàññó, ïðîíèêàÿ ÷åðåç ýòî òðåõìåðíîå ïîëå, ñîçäàâàÿ êðîøå÷íûå âîçìóùåíèÿ â íåì. (×åì ñèëüíåå èõ âçàèìîäåéñòâèå ñ ïîëåì, òåì áîëüøå ìàññà ó íèõ.) Êîãäà ïîëå èñïûòûâàåò çíà÷èòåëüíûé âñïëåê ýíåðãèè â îïðåäåëåííîì ìåñòå, îíî èñïóñêàåò áîçîí Õèããñà.  2013 ãîäó ôèçèêè ïîäòâåðäèëè, ÷òî èõ íàáëþäåíèÿ 2012 ãîäà äåéñòâèòåëüíî áûëè òîé ñàìîé íåóëîâèìîé ÷àñòèöåé, êîòîðóþ èíîãäà íàçûâàþò «÷àñòèöåé Áîãà» èç-çà åå ðîëè â ïðèäàíèè âñåì äðóãèì ÷àñòèöàì ìàññû.
Îòêðûòèå Õèããñà ïîñòàâèëî ïåðåä ôèçèêàìè íîâûå âîïðîñû. ×àñòèöà áûëà íåìíîãî ëåã÷å, ÷åì ïðåäñêàçûâàëè íåêîòîðûå åå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè ýëåìåíòàðíûìè ÷àñòèöàìè, ÷òî îçíà÷àåò, ÷òî ëèáî êòî-òî îáìàíóë ìàòåìàòèêó, ëèáî ñóùåñòâóåò áîëåå îäíîãî òèïà áîçîíà Õèããñà – âîçìîæíî, âêëþ÷àÿ áîëåå òÿæåëûé Õèããñ, êîòîðûé ïîêà íå áûë îáíàðóæåí. Ôèçèêè ñåé÷àñ èñïîëüçóþò LHC äëÿ ïîèñêà ýòèõ âîçìîæíûõ òÿæåëûõ áîçîíîâ Õèããñà.
2013: Voyager 1 âûõîäèò â ìåæçâåçäíîå ïðîñòðàíñòâî
Ïîñëå ïî÷òè 35 ëåò ïîëåòîâ íàä ïëàíåòàìè è ëóíàìè çîíä ÍÀÑÀ Voyager 1 âîøåë â èñòîðèþ â 2013 ãîäó, êîãäà ó÷åíûå îáúÿâèëè, ÷òî êîñìè÷åñêèé àïïàðàò îôèöèàëüíî ïîêèíóë Ñîëíå÷íóþ ñèñòåìó (åñëè ãîâîðèòü òî÷íåå, òî òîëüêî ãåëèîñôåðó, çà êîòîðîé íà÷èíàåòñÿ ìåæçâåçäíîå ïðîñòðàíñòâî) â àâãóñòå 2012 ãîäà.
Çîíä áûë çàïóùåí ñ Çåìëè â 1977 ãîäó è ïðîâåë ñëåäóþùåå äåñÿòèëåòèå, èññëåäóÿ Þïèòåð, Ñàòóðí, Óðàí, Íåïòóí è èõ ñïóòíèêè.  2013 ãîäó äàííûå, îòïðàâëåííûå ñ çîíäà, ïîêàçàëè èçìåíåíèÿ â ïëîòíîñòè ýëåêòðîíîâ âîêðóã Voyager 1 – ãëàâíûé ïðèçíàê òîãî, ÷òî êîñìè÷åñêèé àïïàðàò âûøåë çà ïðåäåëû Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Voyager 1 áóäåò ïðîäîëæàòü îòïðàâëÿòü èíôîðìàöèþ îáðàòíî íà Çåìëþ î ìåæçâåçäíîì ïðîñòðàíñòâå ïðèìåðíî äî 2025 ãîäà. Ïîñëå ýòîãî îí íàñòðîåí íà äëèòåëüíûé «îòïóñê» â ãëóáîêîì êîñìîñå, ñ åäèíñòâåííîé âîçìîæíîñòüþ òîãî, ÷òî êîãäà-íèáóäü êàêàÿ-òî èíîïëàíåòíàÿ ôîðìà æèçíè çàìåòèò íåáîëüøîé çîíä è åãî ïîñëàíèå, ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîé êàïñóëó âðåìåíè, â êîòîðîé õðàíÿòñÿ èçîáðàæåíèÿ ëþäåé, êàðòû íàøåé ñîëíå÷íîé ñèñòåìû è äðóãèå ïîäñêàçêè î ñóùåñòâîâàíèè öèâèëèçàöèè íà Çåìëå.
2014: ãðàâèòàöèîííûå âîëíû
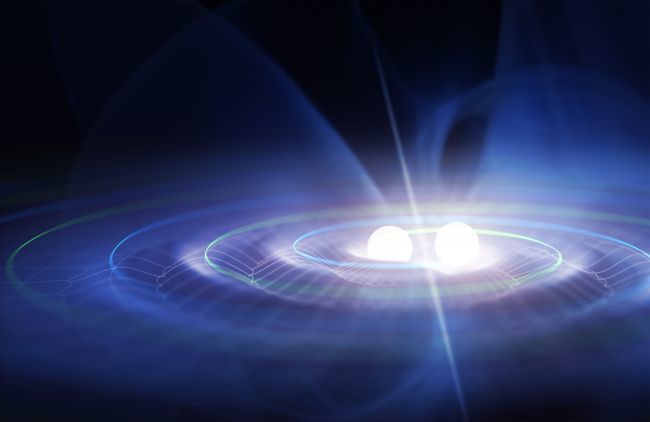
Äî 2014 ãîäà ó÷åíûå èìåëè òîëüêî êîñâåííûå äîêàçàòåëüñòâà Áîëüøîãî âçðûâà, òåîðèè, êîòîðàÿ îïèñûâàåò îøåëîìëÿþùåå ðàñøèðåíèå êîñìîñà, ïðîèçîøåäøåå 13,8 ìèëëèàðäîâ ëåò íàçàä è ïîðîäèâøåå íàøó âñåëåííóþ. Íî â 2014 ãîäó ó÷åíûå âïåðâûå îáíàðóæèëè ïðÿìûå äîêàçàòåëüñòâà ýòîãî êîñìè÷åñêîãî ðàñøèðåíèÿ, êîòîðîå íåêîòîðûå íàçûâàëè «äûìÿùèì ðóæüåì» ïîñëå íà÷àëà Âñåëåííîé.
Ýòî ñâèäåòåëüñòâî ïðèøëî â âèäå ãðàâèòàöèîííûõ âîëí, áóêâàëüíûõ ïóëüñàöèé â ïðîñòðàíñòâå-âðåìåíè, îñòàâøèõñÿ ñ ïåðâîé äîëè ñåêóíäû ïîñëå Áîëüøîãî âçðûâà. Ýòè âîëíû âûçâàëè èçìåíåíèÿ â ïîëÿðèçàöèè êîñìè÷åñêîãî ìèêðîâîëíîâîãî ôîíà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ èçëó÷åíèåì, ñîõðàíèâøåìñÿ îò ðàííåé Âñåëåííîé. Èçìåíåíèÿ ïîëÿðèçàöèè íàçûâàþòñÿ B-ìîäàìè. Èìåííî ýòè B-ìîäû áûëè îáíàðóæåíû ó÷åíûìè ñ ïîìîùüþ ôîíîâîé ñúåìêè êîñìè÷åñêîãî Âíåãàëàêòè÷åñêîãî ïîëÿðèçàöèîííîãî òåëåñêîïà (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization 2, BICEP2) â Àíòàðêòèêå.
Ñ òåõ ïîð ãðàâèòàöèîííûå âîëíû ïðîäîëæàþò ðàñêðûâàòü çàãàäêè Âñåëåííîé, òàêèå êàê äèíàìèêà ñòîëêíîâåíèé ÷åðíûõ äûð è ñòîëêíîâåíèé ìåæäó íåéòðîííûìè çâåçäàìè.
Ãðàâèòàöèîííûå âîëíû ìîãóò äàæå ïîìî÷ü îêîí÷àòåëüíî îïðåäåëèòü, íàñêîëüêî áûñòðî ðàñøèðÿåòñÿ Âñåëåííàÿ.
2015: ïåðâîå ðåäàêòèðîâàíèå CRISPR ÷åëîâå÷åñêèõ ýìáðèîíîâ
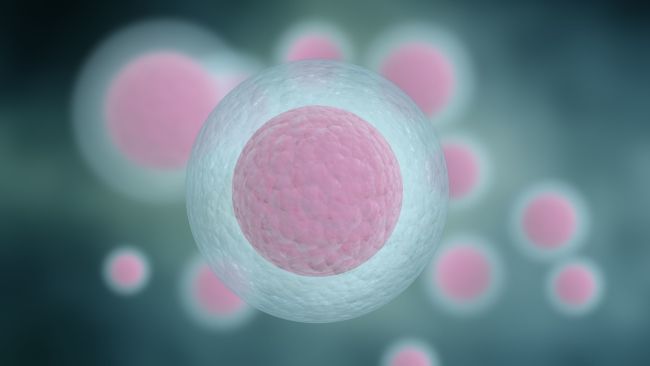
Âîçìîæíî, ñàìàÿ áîëüøàÿ áèîìåäèöèíñêàÿ èñòîðèÿ äåñÿòèëåòèÿ – ïîÿâëåíèå òåõíîëîãèè ðåäàêòèðîâàíèÿ ãåíîâ CRISPR. Ýòà òåõíîëîãèÿ âîçíèêàåò èç åñòåñòâåííûõ çàùèòíûõ ìåõàíèçìîâ íåêîòîðûõ áàêòåðèé; ýòî ñåðèÿ ïîâòîðÿþùèõñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé ãåíîâ, ñâÿçàííûõ ñ ôåðìåíòîì Cas9, êîòîðûé äåéñòâóåò êàê ïàðà ìîëåêóëÿðíûõ íîæíèö.
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ãåíîâ ìîãóò áûòü îòðåäàêòèðîâàíû, ïîìåùàÿ íóæíûé ôðàãìåíò â îïðåäåëåííûé ñåãìåíò ÄÍÊ è íàïðàâëÿÿ ôåðìåíò Cas9, äëÿ äàëüíåéøèõ ìàíèïóëÿöèé.
Èñïîëüçóÿ ýòó ñèñòåìó, ó÷åíûå ìîãóò ëåãêî ñòèðàòü è âñòàâëÿòü êóñî÷êè ÄÍÊ â æèâûå îðãàíèçìû, ÷òî èìååò î÷åâèäíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ëå÷åíèÿ ãåíåòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è, âîçìîæíî, ïðèâîäèò ê âîçìîæíîñòè ïîÿâëåíèÿ ïîòîìñòâà íà çàêàç. Ïåðâûé øàã íà ýòîì ïóòè áûë ñäåëàí â 2015 ãîäó, êîãäà ó÷åíûå èç Óíèâåðñèòåòà Ñóíü ßòñåíà â Êèòàå îáúÿâèëè, ÷òî îíè ñäåëàëè ïåðâûå â ìèðå ãåíåòè÷åñêèå ìîäèôèêàöèè ÷åëîâå÷åñêèõ ýìáðèîíîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì CRISPR. Ýìáðèîíû íå áûëè æèçíåñïîñîáíûìè, è ïðîöåäóðà áûëà òîëüêî ÷àñòè÷íî óñïåøíîé – íî ýêñïåðèìåíò áûë ïåðâûì, ÷òî îáîçíà÷èëî ýòè÷åñêóþ ïðîáëåìó, êîòîðóþ íàó÷íîå ñîîáùåñòâî îáñóæäàåò ïî ñåé äåíü.
2016: Ýêçîïëàíåòà îáíàðóæåíà â îáèòàåìîé çîíå
Áëèæàéøèé ñîñåä Çåìëè – ýêçîïëàíåòà, îáíàðóæåííàÿ â 2016 ãîäó, íàõîäèòñÿ íå òîëüêî íà ðàññòîÿíèè 4,2 ñâåòîâûõ ãîäà – îíà îáëàäàåò ïîòåíöèàëîì äëÿ æèçíè.
Ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî ïëàíåòà, ïîëó÷èâøàÿ íàçâàíèå Ïðîêñèìà b, áåçóñëîâíî, ïðèãîäíà äëÿ îáèòàíèÿ, íî îíà íàõîäèòñÿ â îáèòàåìîé çîíå ñâîåé çâåçäû, òî åñòü îíà âðàùàåòñÿ âîêðóã ñâîåé çâåçäû íà ðàññòîÿíèè, êîòîðîå ïîçâîëèò æèäêîé âîäå ñóùåñòâîâàòü íà ïîâåðõíîñòè ïëàíåòû.
Ïëàíåòà âðàùàåòñÿ â Ïðîêñèìå Öåíòàâðà; êîëåáàíèÿ â äâèæåíèÿõ ýòîé çâåçäû, êîãäà ïëàíåòà ïðîõîäèëà ìèìî, íàìåêàëè íà ñóùåñòâîâàíèå Ïðîêñèìà b.
Ñ ìîìåíòà îòêðûòèÿ ó÷åíûå íàáëþäàëè ñâåðõâñïëåñêè âûñîêîé ðàäèàöèè îò Ïðîêñèìà Öåíòàâðà, êîòîðûå îáëó÷àëè ýêçîïëàíåòó, ðåçêî ñíèæàÿ øàíñû íà âûæèâàíèå íà Ïðîêñèìå b. Òåì íå ìåíåå, îíè òàêæå îáíàðóæèëè, ÷òî ìîæåò áûòü áîëüøå ïëàíåò, âðàùàþùèõñÿ âîêðóã Ïðîêñèìû b.
2017: Ñàìûå ñòàðûå îêàìåíåëîñòè Homo Sapiens îòîäâèíóâøèå âèä íàçàä íà 100 000 ëåò
Êàê äîëãî Homo Sapiens áðîäèò ïî ïëàíåòå? Îòêðûòèå, îáúÿâëåííîå â 2017 ãîäó, îòîäâèíóëî âðåìÿ íàçàä íà 300 000 ëåò.
Ýòî íà 100 000 ëåò áîëüøå, ÷åì ñ÷èòàëîñü ðàíåå. Èññëåäîâàòåëè îáíàðóæèëè êîñòè â âîçðàñòå 300 000 ëåò â ïåùåðå â Ìàðîêêî, ãäå, ïî êðàéíåé ìåðå, ïÿòü ÷åëîâåê ìîãëè óêðûòüñÿ âî âðåìÿ îõîòû. Ìåñòî îáíàðóæåíèÿ – â ñåâåðíîé ÷àñòè Àôðèêè, à íå â âîñòî÷íîé ÷àñòè Àôðèêè, ãäå áûëè îáíàðóæåíû ïðåæíèå ñàìûå ñòàðûå îêàìåíåëîñòè Homo Sapiens, – íàìåêàåò íà òî, ÷òî íàø âèä, âîçìîæíî, íå ýâîëþöèîíèðîâàë ñíà÷àëà â âîñòî÷íîé ÷àñòè Àôðèêè, à çàòåì ðàñïðîñòðàíèëñÿ â äðóãèå ìåñòà. Âìåñòî ýòîãî Homo Sapiens ìîã ðàâíîìåðíî ðàçâèâàòüñÿ ïî âñåìó êîíòèíåíòó.
2018: ïåðâûå äåòè ñ CRISPR
Ñïóñòÿ âñåãî òðè ãîäà ïîñëå ïåðâîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ íåæèçíåñïîñîáíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ýìáðèîíîâ ñ ïîìîùüþ CRISPR, áûëà ïåðåñå÷åíà ñëåäóþùàÿ ÷åðòà â ðåäàêòèðîâàíèè ãåíîâ. Íà ýòîò ðàç êèòàéñêèé ó÷åíûé ïî èìåíè ×àíüêóé Õå îáúÿâèë, ÷òî îí îòðåäàêòèðîâàë ãåíîìû äâóõ ýìáðèîíîâ, êîòîðûå çàòåì áûëè èìïëàíòèðîâàíû ñ ïîìîùüþ ÝÊÎ (ýêñòðàêîðïîðàëüíîå îïëîäîòâîðåíèå) â óòðîáó ìàòåðè, ïîñëå ÷åãî ðîäèëèñü äåâî÷êè-áëèçíåöû, êîòîðûå ñòàëè ïåðâûìè â ìèðå ìëàäåíöàìè CRISPR.
Åãî ðåäàêòèðîâàíèå çàäåéñòâîâàëî ãåí CCR5, êîòîðûé òåîðåòè÷åñêè äîëæåí ñäåëàòü äåòåé ìåíåå óÿçâèìûìè ê çàðàæåíèþ ÂÈ×. Ìíîãèå ó÷åíûå áûëè ïîòðÿñåíû òåì, ÷òî Õå ïðåäïðèíèìàåò òàêèå øàãè â ðåäàêòèðîâàíèè ãåíîâ â ýòîì êîíòåêñòå, îñîáåííî ó÷èòûâàÿ äîñòóïíûå è ìåíåå òåõíîëîãè÷åñêè èíòåíñèâíûå ìåòîäû ïðåäîòâðàùåíèÿ ÂÈ× (òàêèå êàê ïðîôèëàêòè÷åñêîå àíòèðåòðîâèðóñíîå ëå÷åíèå). Ïîçæå, èç äàííûõ, îïóáëèêîâàííûõ èññëåäîâàòåëÿìè, âîçíèêëî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî áûëà ôàêòè÷åñêè âûçâàíà ðàíåå íåèçâåñòíàÿ ìóòàöèÿ ó äåâî÷åê.
Ïîòåíöèàëüíûå ïîáî÷íûå ýôôåêòû äëÿ äåâî÷åê äî ñèõ ïîð íåèçâåñòíû, êàê è ñóäüáà ó÷åíîãî, êîòîðûé çàíèìàëñÿ ðåäàêòèðîâàíèåì.  ÿíâàðå 2019 ãîäà ãàçåòà The New York Times ñîîáùèëà, ÷òî åìó, âåðîÿòíî, áóäóò ïðåäúÿâëåíû óãîëîâíûå îáâèíåíèÿ â Êèòàå, õîòÿ íåÿñíî, ïî êàêèì çàêîíàì îí ìîæåò áûòü îáâèíåí.
2019: ïåðâîå èçîáðàæåíèå ÷åðíîé äûðû
×åðíûå äûðû âñåãäà áûëè àñòðîíîìè÷åñêèì õèòîì: ìû çíàåì, ÷òî îíè åñòü, íî ïîñêîëüêó ñâåò íå ìîæåò âûéòè çà ïðåäåëû èõ ãîðèçîíòîâ ñîáûòèé, îíè ïðè ýòîì êàê áû íåâèäèìû.
Äî ïðîøëîãî ãîäà: âïåðâûå ó÷åíûå çàïå÷àòëåëè èçîáðàæåíèå ÷åðíîé äûðû. Îáúåêòîì íà ýòîì ïîðòðåòå áûëà ÷åðíàÿ äûðà â öåíòðå ãàëàêòèêè Ìåññüå 87, êîòîðàÿ ñòîëü æå îáøèðíà, êàê è âñÿ íàøà ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà. Êàðòèíà âûãëÿäèò êàê ñâåòÿùèéñÿ ïîí÷èê, îêðóæàþùèé áåçäíó ÷åðíîòû; ýòî ïûëü è ãàç, âðàùàþùèåñÿ âîêðóã òî÷êè íåâîçâðàòà ÷åðíîé äûðû.
Ýòî îòêðûòèå ïðèíåñëî èññëåäîâàòåëÿì ïðåìèþ Ïðîðûâ 2020 ãîäà, îäíó èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ íàó÷íûõ ïðåìèé. Ñåé÷àñ îíè ðàáîòàþò, ÷òîáû çàõâàòûâàòü íå òîëüêî èçîáðàæåíèÿ, íî è ôèëüìû ñ ÷åðíûìè äûðàìè.
— Это должны решать другие люди. Мир достаточно сложен, и, если вы преуспели в создании системы или концептуальных подходов, которые помогают нам этот сложный мир понять, это можно назвать пользой. Это дает людям более ясное понимание. В качестве примера приведу теорию общественного выбора и частный выбор. Что должно быть приватизировано, а что — остаться в государственном секторе? Взгляды людей в этом вопросе строятся на идеологии, и я думаю, что это неправильно, поскольку решать, какая форма организации будет наиболее продуктивной и эффективной, — задача экономики. И моя работа помогает лучше понять эти вопросы.
— Вы занимаетесь теорией контрактов. Как можно применять ее в смежных областях: политологии, праве, психологии?
— Не знаю насчет психологии. В политологии очень много параллелей с экономическим анализом контрактов. Конституция — один из примеров. Зачем она нужна нам? Это контракт по управлению целой страной, и важно отметить, что любая конституция является неполной. Поэтому нам нужны судьи, которые решат, что соответствует конституции, а что нет. Даже размышления в подобном ключе могут быть полезными. Вы можете представить конституцию, в которой все подробно описано? Что из этого станет полезным, а что принесет издержки? Почему в конституции столько вопросов мы выносим за скобки, полагаясь на то, что верховный суд эти пробелы заполнит?
Что касается сферы права, то там контракты изучаются повсеместно. Есть аспект, которым юристы нечасто занимаются, а моя работа его затрагивает. В случае неполных контрактов одной стороне может быть выгодно купить у другой активы, поскольку это усиливает власть в отношениях. Но юристы часто рассматривают активы как данность. А теперь подумайте, каким будет лучший контракт, который напишет фирма. Я бы рассматривал размещение активов как выбираемую переменную. Если юристы будут смотреть под таким углом, это принесет пользу.
— В 1997 году вы написали работу, в которой показали неэффективность частных тюрем в США по сравнению с государственными. Правомерно ли это в отношении университетов и школ? Как это работает в других странах, например России или Китае?
— Я не осмелюсь детально говорить о том, как обстоят дела в Китае, России и даже Швеции. Нужно изучать каждый случай достаточно подробно, чтобы делать выводы, что делается верно, а что нет. Но я создал своеобразную схему, позволяющую размышлять над этими вопросами и предсказывать преимущества и издержки. Мы выступали в защиту государственного предоставления услуг, когда речь шла о тюрьмах усиленного режима. Со школами сложнее. С одной стороны, частые школы имеют преимущества из-за конкуренции. В нашей работе мы подчеркивали, что конкуренция усиливает предоставление услуг со стороны частного сектора. В случае тюрем речь о конкуренции не идет. Давать заключенным возможность выбора, в какую тюрьму они хотят отправиться, вряд ли хорошая идея. А вот у школ и университетов конкуренция возможна. Одна из причин, по которой приватизация приносит преимущества… Если школа экономит деньги в ущерб качеству, она будет наказана, люди поймут, что качество оставляет желать лучшего, и отправят своих детей в другие школы. Эта дополнительная сила удерживает тех, кто предоставляет частные услуги, от перегибов.
Если посмотреть вокруг, то многие наиболее успешные в мире школы — частные. Но большинство из них, если не все, являются некоммерческими. Например, частная британская школа для мальчиков Итон, из университетов — это Гарвард, Стэнфорд, Принстон, Йель. Все они частные, но некоммерческие, и это о многом говорит.
— На пресс-конференции нобелевских лауреатов вы говорили о дискриминации женщин в науке, в частности, вы заметили, что экономике нужно больше женщин. Не приведет ли это к дискриминации мужчин?
— Может, конечно. Думаю, что вероятность есть. Женщин хотят продвигать вперед, и мы часто видим, что женщины получают премии, признание достаточно быстро, и могут быть мужчины, которые дольше работают и остаются без наград. И они видят молодых женщин, которые все это получают, и думают: «Что происходит? Это же заслужил я». Так что от позитивной дискриминации (предоставление преимущественных прав тем, кто часто страдает от дискриминации: представителям национальных меньшинств, инвалидам, женщинам, — прим. Indicator.Ru) могут быть издержки. Но есть и преимущества. И одно из главных преимуществ, о нем я и говорил на пресс-конференции, состоит в том, чтобы поддерживать молодых женщин, давать им образцы для подражания. С другой стороны, станут очевидными сложности, с которыми они сталкиваются в этой системе, которые мы, возможно, не осознаем. Если они часть системы, то они могут об этом заявить и поменять ее, сделав более доброжелательной. Так что есть как минусы, так и плюсы.
— Вы подписали письмо против политики Дональда Трампа. Ожидаете какого-то эффекта?
— Ничего не ожидаю. Честно говоря, я никогда не думал, что оно повлияет на большие группы людей. Избиратели Трампа не особо заинтересуются тем, что говорит группа экономистов. Многие, напротив, предположили, что письмо может привести к обратным результатам. Люди сейчас вообще очень подозрительно относятся к экспертам, поэтому могут стать еще более уверены в том, что правильно выбрали Трампа. Несмотря на это, я чувствовал, что должен подписаться, потому что иногда нужно встать и сказать «нет». Я не просто отреагировал на экономическую политику Трампа, которая кажется непоследовательной. Письмо получилось очень хорошим с точки зрения того, что не так с его экономической политикой. Теперь он выиграл выборы и вносит корректировки. Не знаю, чем это закончится. Но это не все, что меня беспокоит. Меня очень тревожат привлекательные для крайне правых призывы Трампа. Он поддерживает расистские взгляды. У некоторых это вызвало чувство дискомфорта, выросло количество преступлений на почве ненависти. Это очень плохо. И хотя письмо было о другом, это тоже одна из причин, почему я подписал его.
— За какие исследования в экономике могут дать Нобелевскую премию в следующем году?
— Сложно предугадать. Есть ученые, которые, по моему мнению, должны получить премию, но я бы не хотел называть имена, им это вряд ли поможет. Мое предположение, что в следующем году будет отмечено не теоретическое исследование, как в этом году, а что-то прикладное, эмпирическое, эконометрика, не знаю. Посмотрим, с нетерпением жду следующего года, потому что я наконец-то расслабился. Но мне любопытно, в каком направлении пойдет Нобелевский комитет.
Екатерина Б. · 14 ноября 2017
414
Бармен, почти писатель, почти танцор
Религия, как говорится в большинстве учебников по истории, стимулироваларазвитие письменности и грамоты в странах возникновения. Христианство на Руси начало свой путь с образования монахов именно этим знаниям в первую очередь для перевода и пропаганды Священного Писания среди неграмотных слоев населения. Кирилл и Мефодий были, по сути своей, миссионерами из Византии, разработавшие азбуку для перевода указанного литературного труда.
Кроме того, религия своими заповедями и учениями привносила некий прообраз морали в общество. Семейный уклад, социальное взаимодействие и прочие моменты.
Но основной причиной, по уоторой религия завоевывает огромное количество последователей по всему миру – это “истина”, которая открывается людям. В эпоху, когда наука только зарождалась, религия давала человеку свои версии ответов на волнующие вопросы. Откуда пошла жизнь, зачем мы в этом мире и что нас ждет на закате времен.
Отсюда и вытекают главные проблемы: борьба с просвещением путем инквизиции, вдалбливание в головы адептов ложных истин, будь то гроб господен в Иерусалиме или священная война против неверных в Исламе. Сотни загубленных жизней в войне за свое видение божественного существования.
Более того, существуют труды историков, в которых говорится о темной стороне прихода Христианства на Русь. По этим теориям славяне не были такими уж отсталыми, а приход религии князя, полюбившего Византийскую принцессу, разрушила жизненный уклад людей и стала ямой в историческом развитии нации.
Я, будучи уверенным противником религии, убежден в большей вредности религии, нежели пользе! Но мнение это сугубо личное.
Для сравнения, за несколько лет революционного атеистичнского террора во Франции было убито больше людей, чем казнено за все века Инквизиции во всех странах её присутствия.
У какой религии больше всего последователей и почему?
Сегодня около трети населения Земли считают себя христианами, не зависимо от конфессии или секты к которой они себя относят. Мусульманином себя назовет почти каждый пятый и их количество в процентном соотношении продолжает расти. Мир христианской традиции, начал рушится с приходом эпохи модерна в европейскую культуру. Однако сегодня, в эпоху зарождающегося постмодерна процесс его уничтожения стал еще более явственней. Напротив традиционный исламский мир в эпоху подлинной модернизации еще даже и не вступил. Идеи либерализма ему абсолютно чужды и неприемлемы. Этим и объясняется большая искренность адептов исламской веры.
Прочитать ещё 3 ответа
Есть ли религии, которые признают научную картину мира, эволюцию, Большой взрыв?
Отвечаю на вопросы о буддийских традициях. Проектирую шрифты.
Буддизм признает научную картину мира в той части, которая доступна эмпирическому опыту.
«Допустим, что что-то со всей определенностью было доказано в ходе научного исследования, что некоторая гипотеза подтвердилась или что в результате такого исследования был установлен определенный факт. Более того, предположим, что этот факт несовместим с теорией Будды. Вне всякого сомнения, мы должны принять результат научного исследования. Видите ли, общий буддийский подход заключается в том, что мы всегда должны принимать факты. Досужие домыслы, не основывающиеся на эмпирическом опыте, когда таковой возможен, неуместны. Таким образом, если гипотеза была подвергнута проверке, в результате которой она на 100 процентов подтвердилась, то это именно то, что нам следует принять.
<…> Буддисты верят в перерождение. Но предположим, что благодаря различным исследовательским методикам наука однажды придет к окончательному заключению, что перерождений не существует. Если данный факт будет со всей определенностью доказан, то мы должны будем его принять, и мы его примем. В этом заключается общая идея буддизма.»
Это вполне соответствует и словам самого Будды: «Не принимайте моё учение просто из веры или из уважения ко мне. Подобно тому как купец на базаре при покупке золота проверяет его: нагревает, плавит, режет — чтобы убедиться в его подлинности, так же проверяйте и моё учение, и только убедившись в его истинности, принимайте его!» © Далай-лама XIV
Прочитать ещё 6 ответов
Как христианство объясняет, почему страдают невинные?
Религиоведение, египтология, диалог мировоззрений
Христианство объясняет это, примерно, так: Бог создал только двух людей – Адама и Еву, он создал их безгрешными. Но когда они совершили первородный грех (захотели стать как боги и вкусили от древа познания), человеческая природа была извращена и стала греховной. Это повреждение наследуют все люди как их потомки. Поэтому люди страдают. Тогда можно спросить: а разве Иисус не искупил этот грех? На это отвечают так: Иисус, приняв человеческую природу, прошёл через все последствия первородного греха, в том числе смерть, но воскрес. Поэтому теперь люди, умерев, воскреснут, но их участь зависит от них самих.
Прочитать ещё 4 ответа
Почему мусульмане так агрессивно защищают свою веру (в отличие от представителей других религий)?
неполиткорректные вопросы на стыке антропологии, генетики, истории, культуры…
Потому, что Мухаммед приказывал убивать критиков его действий и идеологии. Достаточно вспомнить убийства многодетной матери Асмы бинт Марван, старика Абу Афака, девочек-рабынь Фартаны и Курайбы и др.
Магометанство действительно можно рассматривать как оголтелый культ личности Мухаммеда.
В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха.
— Коран 33:21
Поэтому Мухаммед не может рассматриваться просто как человек своего времени. Ведь это равносильно утверждению, что Коран устарел и не может иметь прямого отношения к современному миру. С точки Корана и сунны это немыслимо.
Действия Мухаммеда являются (и всегда будут) морально приемлемыми для магометан, а любая критика Мухаммеда по шариату карается смертной казнью (archive.is/e3tha, archive.is/CUcJu).
И совершенно неудивительно, что критика Мухаммеда в исламской среде считается «богохульством». И порой даже слухов достаточно для организации погромов немагометанских общин (в Пакистане, Бангладеш, Египте подобные случаи — обыденность)
Прочитать ещё 1 ответ
Как бы изменился мир, если бы атеистов в обществе было больше, чем верующих?
Католик, историк, англоман-роялист.
¡Viva Cristo Rey!
А вы полагаете, что атеистов сейчас меньше, чем верующих? Мне кажется, наоборот, верующих мало. Просто многие люди называют себя верующими, но о своей религии знают крайне мало и, к сожалению, не сильно стремятся её познать.
Но, допустим, атеистов стало больше. Всё просто – они придумают себе квази-религию: марксизм-ленинизм, культ предков, теория заговора, безапелляционные толерантность-политкорректность… Вариантов мало – или люди будут поклоняться кому-то (вождь, деды, пророк), или чему-то (идея), или же исходить из обратного (теории заговоров). Почему-то человек так устроен, что ему нужно во что-то верить – в Бога или Его отсутствие, в политическую или философскую идею, в великих людей и достижения прошлого или засилье какой-либо нации/группы людей.
Боюсь, что на развитие науки это не влияет. А жаль.
Прочитать ещё 9 ответов

